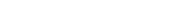Директор музея ирина антонова – В честь 95-летия Ирины Антоновой в стенах Музея изобразительных искусств имени Пушкина проходят торжества
Директор Пушкинского музея Ирина Антонова проиграла публичную битву за проект своей мечты: Lenta.ru
«У нас здесь мегагипермероприятие», — говорит по телефону сотрудница Минкульта в зеленом платье и с микрофоном, глядя, как зал заполняют самые авторитетные музейщики страны, а операторы устанавливают камеры, готовясь к прямой трансляции. Позднее к подобному громоздкому словообразованию, только уже в ироническом ключе, прибегнет один из участников заседания: Алексей Лебедев из Института культурологии назвал проект Антоновой «квазимегасупермузеем». Наконец, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, едва ли произнесший пять фраз в течение всего обсуждения, выступая в самом его конце с позиции необъявленного победителя, подпустил иронии: на этот супермузей потребуются суперденьги, так давайте лучше будем возить по России супервыставки супервещей.
В отличие от главы Эрмитажа, много отвечать за свои идеи пришлось его оппоненту: если Пиотровскому задали полвопроса, то директору Пушкинского музея с полувековым стажем работы в нем в самом начале заседания устроили пулеметный блиц-допрос, который затем на стадии выступлений перешел в кавалерийский наскок. Ирина Антонова держалась бодро и достойно, однако было очевидно, что к разгрому она не готова: все ее аргументы, столь свежо прозвучавшие для Владимира Путина, профессионалам были известны давно, а новых она не запасла.
В соответствии с главной идеей Антоновой, ГМНЗИ надо восстанавливать не для того, чтобы кого-то обидеть, а чтобы обиды загладить — восстановить историческую справедливость: в 1948 году музей ликвидировали в рамках кампании против формализма в искусстве, то есть он стал такой же жертвой идеологических репрессий, как Ахматова или Шостакович. Музей надо реабилитировать — Антонова повторяла свою основную метафору, словно заклинание, и было видно, что вспоминаемый и чаемый музей для нее — как живой человек. Оппоненты отнеслись к этой идее сухо: главред журнала «Звезда» Яков Гордин заявил, что реабилитация не происходит за чей-то счет, «вместо Иванова не сажают Петрова» (очевидно, имея в виду, что Петров, то есть Эрмитаж, не виноват в несчастьях ГМНЗИ). Помощник Пиотровского Юлия Кантор напомнила, что при реабилитации репрессированных издаются книги памяти — и их полным аналогом могут считаться таблички при картинах в Эрмитаже, на которых уже с 1956 года, после XX съезда компартии, ГМНЗИ назван и, соответственно, восстановлен в правах.
Антонову много спрашивали о том, как, мечтая откатить статус кво на 65 лет назад, она собирается обходить законодательство: в федеральном законе номер 54 сказано, что «музейная коллекция является неделимой». Директор ГМИИ отвечала лишь, что речь идет не о дележе, а, напротив, о воссоединении разделенного — очевидно, предпочитая забывать, что обратной силы закон не имеет (норма о музейном фонде была принята лишь в 1996 году). В ответ тот же Лебедев воспользовался государственно-официальной риторикой, призвав директора ГМИИ «жить по закону, а не по понятиям».

Ирина Антонова. Фото: Бобылев Сергей / ИТАР-ТАСС
Если закон нарушить один раз даже в виде исключения, то дальше эти исключения пойдут по принципу домино, утверждали выступавшие. В речах едва ли не каждого второго звучало грозное слово «реституция». «Это тема, которую мы боимся больше всего», — откровенно заявил директор Исторического музея Алексей Левыкин: после отъема французской коллекции у Эрмитажа пойдет волна претензий ко всем ото всех — и ладно бы только от других российских музеев, но и от других стран (прежде всего бывших союзных республик), частных лиц и религиозных организаций. Левыкин, ссылаясь на свой опыт, утверждал, что необходимость отдавать экспонаты подрывает авторитет музейного руководителя. Антоновой напомнили и про передел фондов 1950-1960-х годов, больно ударивший по региональным музеям, и про совсем свежую историю француза Пьера Коновалофф, который судился, пусть и безуспешно, с музеем Метрополитен за картину «Мадам Сезанн в оранжерее», ранее принадлежавшую его предку — тому самому меценату Ивану Морозову, чья национализированная коллекция легла в основу собрания ГМНЗИ (портрет продали за рубеж в 1933 году).
Антонова, очевидно, используя силу убеждения, говорила, что никаких претензий ни от кого быть не может, потому что случай ГМНЗИ — это не прецедент, а лишь единократное восстановление исторической справедливости в отношении единственного в России репрессированного музея. Однако оппоненты были безжалостны: директору ГМИИ напомнили про Музей обороны Ленинграда, разгромленный в 1949 году в ходе «Ленинградского дела» тоже по политическим причинам — за принижение роли Сталина. Причем второму репрессированному музею повезло куда меньше, чем ГМНЗИ: директора отправили в лагерь, половина экспонатов была уничтожена, еще половина — распылена по стране. А в годы «перестройки» музей восстановили, не отнимая экспонаты у других, напомнила историк тоталитаризма Юлия Кантор, вместе с Василием Церетели посоветовав Антоновой так же поступить и с Музеем западного искусства.
Наконец, говорившие расправились и с иллюзией, будто в 1948 году был уничтожен музей, естественно наследовавший коллекциям меценатов Морозова и Щукина. Лариса Зелькова из фонда Потанина заметила, что музей и создан, и разрушен был волюнтаристским решением и что она не видит оснований творить произвол и сейчас («Чтобы не было произвола и дальше», — защищалась Антонова). «Историческая память обладает свойством опасной ассоциативности», — дипломатично высказался Гордин из «Звезды», заявив, что Эрмитаж не должен повторить судьбу ГМНЗИ. Куда большей прямолинейностью отличались другие выступавшие: Кантор назвала ГМНЗИ «памятником большевистскому грабежу», а Лебедев — «порождением сталинской эпохи». По его словам, Антонова хочет восстановить коллекцию постимпрессионистов «по состоянию на 1937 год».
Оппоненты пеняли Антоновой не только прошлым, но и будущим музея, которое казалось им куда более смутным, чем директору ГМИИ. Ни из речи Антоновой, ни тем более из слов других выступавших не складывалось ясного портрета ГМНЗИ, будь он восстановлен. Законсервированное повторение изначального музея невозможно, например, потому, что часть картин из него продана за рубеж. Если Антонова видит новый ГМНЗИ как памятник дореволюционным коллекциям Щукина и Морозова, то этого тоже не получится: Морозов собирал в том числе и русское искусство, а это значит, что под внутримузейную реституцию в таком случае попадут и Третьяковка, и другие собрания. Наконец, можно воспринимать название Музея нового западного искусства не идиоматически, а буквально — однако, как выразилась глава кремлевских музеев Елена Гагарина, «современному зрителю такая концепция нового западного искусства показалась бы забавной». А если и правда России нужен отдельный современный музей той эпохи, говорили эксперты, то он фактически уже есть: его создает тот же Пиотровский в восточном крыле Главного штаба.
Антонова, правда, в какой-то момент попыталась защитить именно версию живого музея: напомнила, что руководители ГМНЗИ Борис Терновец и Сергей Лобанов пополняли коллекцию, покупая, например, картины немецких художников, а значит, и новый музей мог бы развиваться («Это же выходит за рамки концепции реабилитации музея!» — крикнули из зала. «Но Эрмитаж же развивался со времен Екатерины Второй!» — парировала директор). Более того, если концепция супермузея нового искусства сейчас не представима без русских художников, то и их мы найдем, рассуждала Антонова: Пушкинский музей готов щедро распахнуть хранилища своего Музея личных коллекций и поделиться собраниями Рихтера, Серебряковой, Родченко, Тышлера, Штеренберга… Видно было, что мечта влечет директора ГМИИ за собой.
А ГМНЗИ — это, конечно, и была мечта, личная греза одного человека. Хоть Антонова и ратовала за восстановление музея как отдельной институции, видно было, что делает это она прежде всего для себя и далеко свою прелесть не отпустит. Когда директор Музея современной истории России Сергей Архангелов спросил Антонову, где можно было бы разместить музей, та расцвела и сообщила сразу о трех вариантах. Во-первых, она своей щедрой рукой готова отдать здание бывшего Голицынского музея — оно передано в оперативное управление Пушкинскому, хоть из усадьбы и никак не выедет Институт философии. Кроме того, Антонова упомянула некое щедрое предложение московских властей, про которое сказала лишь, что это тоже здание рядом с ГМИИ. Наконец, музей нового искусства «заслуживает прекрасной новой архитектуры», считает она, и лучше всего было бы, если бы для него построили отдельное здание — напротив такого же восстановленного храма Христа Спасителя. То есть, как ни крути, бок о бок с Пушкинским. «А то какой-нибудь бизнесмен построит на этом пустыре торговый центр», — предположила Антонова. (На самом деле напротив ХХС не пустырь, а кремлевская АЗС, единственная в пределах Бульварного кольца; сам ГМИИ собирался, создавая музейный городок, возвести вместо нее свой выставочный комплекс — хайтековый «пятилистник» по проекту Нормана Фостера. Однако античную бензоколонку не дали в обиду ни градозащитники из «Архнадзора» ни, что важнее, чиновники, которые на ней заправляются.)

Михаил Пиотровский. Фото: Петр Ковалев / ИТАР-ТАСС
Казалось, хватаясь в благородном порыве за ускользающую тень ГМНЗИ, Антонова готова выпустить из рук то, что так крепко держала полвека. Отвечая на уточняющий вопрос Елены Гагариной, готов ли ГМИИ вслед за Эрмитажем отдать музею своих модернистов, она сказала, что это подразумевалось с самого начала. Однако Эрмитаж-то потерю своих «больших французов» переживет, а вот Пушкинский совершенно потеряет лицо, заявил завкафедрой всеобщей истории искусства истфака МГУ Иван Тучков. Из этого же следует, кстати, что Антоновой не жаль не только Музея личных коллекций, голицынского особняка и фостеровского «пятилистника», но и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков: чем заполнять ее без щукинско-морозовских картин, совершенно неясно.
Не готовая к тому, что у нее найдется столько противников, Антонова все равно сносила упреки по-аристократически достойно — и лишь один раз сорвалась. Удар ей нанесла все та же Юлия Кантор из Эрмитажа, показав с трибуны копию письма, которое директор ГМИИ Сергей Меркуров написал Маленкову 15 июня 1945 года, то есть за три года до разгрома ГМНЗИ. По словам Кантор, предшественник Антоновой и был инициатором расщепления коллекции Музея западного искусства: в письме он просил «вывести на прямую линию с руководством страны» вопрос о передаче картин в Пушкинский. Петербурженке Кантор, впрочем, оппонировала уже москвичка Наталья Сиповская, директор Института искусствознания. По ее словам, Меркуров заранее знал о намерении ликвидировать ГМНЗИ и, обращаясь к власти, хотел спасти экспонаты: «Не надо передергивать». То же самое повторила и Антонова в своем заключительном слове, назвав истинными инициаторами развала музея Академию художеств и ее главу Александра Герасимова. Защищая Меркурова, она расчувствовалась и неожиданно для всех сказала: «Это подстава, — но тут же поправилась: — Это неправда».
В заключительном слове Антонова жаловалась, что на заседание не пригласили никого из ее сторонников — правда, сама она смогла назвать только коллектив журнала «Наше наследие» и 89-летнего академика Дмитрия Сарабьянова. По словам Антоновой, она только вынесла идею на обсуждение, а не занималась сбором подписей и мнений, как делали ее эрмитажные оппоненты. Они и правда так сделали: те противники воссоздания ГМНЗИ, которые не смогли приехать, прислали письма и экспертные заключения — от директоров музеев до целых творческих и научных коллективов. Письмо прислали даже из РПЦ: архимандрит Тихон в нем предвещал «музейный хаос». Ведущим даже пришлось специально объяснять Антоновой, что заседание не скрывали от публики, а официально на него пригласили только Экспертный совет и президиум Союза музеев.
В остальном же директор Пушкинского повторяла свои старые аргументы: в частности, что в 1948 году был уничтожен первый в мире музей современного искусства (открытый за пять лет до MoMA). Было видно, что она не отделяет главную мечту своей жизни от главного дела жизни: Антонова тут же естественно перешла на заслуги ГМИИ в экспонировании современного искусства, вспомнив первые в стране выставки Дали и Бойса.
«Это Мекка Москвы, это последний шанс Москвы», — завороженно говорила Антонова, не глядя ни на кого, так что было понятно: она уже видит музей своей мечты воплощенным. Но стоило об этом подумать, как директор ГМИИ словно вынырнула обратно в реальность и произнесла: «Кстати, вы наверное его не видели, а я видела музей. Я в нем бывала со своим учителем профессором Алпатовым». Этот момент, кажется, объяснил все. История из юности стала одновременно грезой о будущем; и в этот момент стало немного неловко из-за того, что выступавший несколькими минутами ранее эксперт Владимир Дукельский сказал, что самым юным посетителям того самого ГМНЗИ сейчас уже под восемьдесят (и Антонова, получается, еще не самый юный). Оттуда же, из личных отношений с далеким прошлым, берется и трогательное отношение к эмоциональному оппоненту Пиотровскому — как к негодному мальчишке. «Вы знаете, я близко знала его отца», — ответила Антонова журналистке, спросившей в кулуарах, приняла ли та эрмитажные извинения.
Заседание закрывал Владимир Мединский, заявивший, что не хочет пока объявлять позицию министерства. «Я считаю, что в 1948 году была совершена ошибка», — сказал министр железным тоном, будто усмиряя армию (впрочем, невидимую) тех, кто с этим несогласен. И продолжил: «Но как знать, вдруг ее исправление станет еще большей ошибкой? В конце концов, основание Петербурга тоже называли самой большой ошибкой Петра Первого, и что теперь?» После этого тонкого намека речь министра пошла по позитивному пути: цивилизованный и открытый спор профессионалов полезен для сообщества, а обычные люди благодаря дискуссии узнали, кто такие Щукин и Морозов, за месяц споров посещаемость Пушкинского и Эрмитажа выросла, а ночи и дни музеев надо проводить чаще одного раза в год: «у людей огромный интерес к культуре».
Получается, что директор ГМИИ зря потревожила Владимира Путина. Отвечая на вопрос «Ленты.ру», Антонова заявила, что ее выступление на «прямой линии» не готовилось заранее — она заявила тему своей реплики, но пришла в студию, не зная, дадут ей микрофон или нет. Однако надежда на президента, судя по всему, у нее осталась, и проваленное заседание в Минкульте для руководителя Пушкинского не означает проигранной войны: «Власть разрушила этот музей, если власть захочет его восстановить, она сможет это сделать».
Кирилл Головастиков
lenta.ru
Моя цель – возродить музей, который разгромил Сталин
Ирина Антонова ушла с поста директора ГМИИ им. Пушкина 6 лет назад, но не ушла из самого музея. Она по-прежнему работает в своем кабинете возле «Итальянского дворика», только уже в должности президента музея. И как бы, может, ни хотелось кому-то, но Ирина Антонова не дает сделать эту должность декоративной и бессмысленной. В частности, она по-прежнему занимается проблемой возрождения Музея нового западного искусства (ГМНЗИ), считая это делом всей своей жизни.
даты биографии
- 1922 – родилась 20 марта в Москве
- 1941 – параллельно с учебой в МГУ окончила курсы медсестер, работала в госпитале
- 1961 – стала директором ГМИИ им. Пушкина
- 2000 – подписала письмо в поддержку политики Путина в Чечне
- 2013 – после отставки с поста директора назначена президентом ГМИИ им. Пушкина
Как мы обогнали Америку
Это был уникальный музей. Он стал одним из первых музеев современного искусства в мире, появившись на 5 лет раньше Нью-Йоркского музея современного искусства (МоМА). Это стало возможным благодаря таланту и чутью Морозова и Щукина, раньше других оценивших работы Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса и раннего Пикассо.
Кампания против «космополитизма» и «низкопоклонства перед Западом», начавшаяся с травли Шостаковича, привела к уничтожению ГМНЗИ. Иосифом Сталиным было принято постановление Совета министров от 6 марта 1948 года о «ликвидации» музея. Экспонаты распределили между Пушкинским и Эрмитажем.
19 июня 2019 года в Пушкинском открылась выставка картин из собрания живописи московского купца Сергея Щукина, а на следующий день нынешний директор музея Марина Лошак выступила на прямой линии президента и попросила отдать особняк в центре Москвы под музей Щукина. Раньше этот дом ему и принадлежал, теперь зданием владеет Минобороны.

Ирина Александровна с Владимиром Спиваковым и Вячеславом Полуниным
// фото: Global Look Press
Не помню экспозиции хуже
– Ирина Александровна, просьба Марины Лошак к президенту имеет отношение к вашему замыслу?
– Нет. Насколько я поняла – а я спросила об этом Марину Девовну, – она не имела в виду именно картины из собрания Щукина. Она мне сказала, что не собирается переносить ни одной картины в дом Щукина. А весь смысл проекта, о котором я говорю, – это объединение живописных коллекций Щукина и Морозова в отдельный музей, как это было в первые годы после революции.
Ну а по поводу дома Щукина я говорила с самим Шойгу какое-то время назад. Он мне объяснил все сложности, связанные с его расположением в комплексе Министерства обороны. И ведь я – единственный человек из нашего музея, кто в этом доме хотя бы побывал, это же теперь закрытое учреждение. Я обошла дом, посмотрела и понимаю, что его передача под музей Щукина вообще ставит крест на возрождении Музея нового западного искусства.
– А выставка коллекции Щукина? Может, это какое-то движение к восстановлению музея?
– Не думаю. Сам факт выставки – это, конечно, само по себе хорошо. Только, на мой взгляд, это безобразная экспозиция с точки зрения показа. Должна сказать, что не припомню экспозиции хуже. Ни одна выставка в музее не собирала такого количества отрицательных отзывов. А ведь я даже не знала, что у нас будет такая выставка…
Спросила некоторых сотрудников, как же они допустили такое безобразие. Они говорят: «Нам сказали принести картины и уходить». То, что представлено на нынешней выставке – это только половина коллекции Щукина. При этом факт выставки подается как что-то беспрецедентное, хотя коллекцию Щукина мы уже показывали к его столетию, и это была большая выставка, просто никто не помнит. Или не захотел припомнить.
Тогда мы получили из Эрмитажа и «Танец», и «Музыку» Матисса. Вместе. Показывать «Танец» так, как сегодня он выставлен, абсолютно бессмысленно. Потому что эти композиции имеют внутренний ритм и общее содержание. Видеть их рядом очень важно для понимания концепции произведения. Почему не приехала «Музыка», я не знаю, я не вела эти переговоры. Но все же на основе взаимных интересов – мы делаем Щукина, а Эрмитаж выставляет Морозова – удалось получить какие-то произведения из Петербурга. Сами вещи-то превосходные, мы это и так знаем. Но почему выставка сделана именно так – непонятно. Все-таки экспозиция должна обсуждаться предварительно. Но этого ничего не было.
Президентство дается за багаж, а не за выслугу
– Почему? Обсудить – разве это проблема?
– Вынуждена признать факт полного отсутствия согласования каких-то решений, в частности со мной как с президентом. Институт президентства должен иметь какие-то основания. И он их имеет, но они не выполняются. Я многократно и открыто говорила об этом с Мариной Девовной, не желая выносить это в поле широкого обсуждения. Но сейчас уже все всё понимают.
Система президентства не продумана и не проработана Министерством культуры. Где-то она, возможно, работает, а где-то нет. И это зависит от двух личностей – того, кто назначен на должность президента, и того, кто пришел в качестве нового директора. Начинать такую сдвоенную, что ли, работу в конфликте невозможно. Если получилось согласие – замечательно. У меня, например, было полное согласие с предшественником, с Александром Ивановичем Замошкиным, который был директором музея до меня. Он не считался президентом, но был членом ученого совета, он мне помогал, советовал. Многое в этой паре зависит от личностей. Но должна быть и твердая система, за которую отчитываются, которая работает и проверяется.
У нас же система президентства – индивидуальная и одноразовая история. Об этом я, кстати, говорила министру. Невольно задаешься вопросом: а нужна ли эта должность? Потому что, когда человека назначают президентом, это значит, что за ним все-таки признают какие-то возможности и багаж, который может работать. Что это не просто за то, что он выслужил много лет.
Не развалится советская власть от двух Ренуаров
– Ирина Александровна, а как делилось собрание картин Щукина и Морозова между Пушкинским и Эрмитажем?
– Это знали четыре человека. Орбели из Эрмитажа, его супруга и специалист во французском искусстве Изергина, наш директор Меркуров и профессор Виппер, его зам по науке. Я знаю, что были дискуссии, каждый что-то свое отстаивал. За отдельные вещи шла жестокая борьба, и Эрмитаж получил больше, чем Музей им. Пушкина. Но ни Орбели, ни Меркуров, несмотря на то, что оба были с Кавказа и были в хороших отношениях с Иосифом Виссарионовичем, не подняли голос в защиту уничтожаемого музея, не сказали ему, что не надо делить.
Я многократно утверждала и буду утверждать: совершенно очевидно, что тот музей уже тогда был важным и перспективным. И сейчас, будучи воссоздан, он мог бы встать в один ряд с величайшими музеями современного искусства в мире и стать украшением столицы России.
Кстати. В том постановлении Сталина есть просто чудовищная фраза. Там не написано «закрыть музей», там написано «ликвидировать». А это огромная разница. Представьте, что получает это распоряжение какая-нибудь башка малообразованная, читает «ликвидировать» и понимает: ага, значит – уничтожить! И еще важная деталь: на подлиннике постановления Сталин не поставил свою подпись – об этом я узнала совсем недавно. Там только подпись его секретаря. Может, Сталину хватило культуры? Он же знал литературу, театр и так далее. Нам может не нравиться его политика, но каким-то запасом культуры он все-таки обладал. Он работал с Лениным – культурнейшим человеком, с Луначарским. И наверное, слышал, что живопись импрессионистов из того собрания – это значительное явление. И если он не поставил свою подпись – это о чем-то говорит. И еще один момент. И мы, и Эрмитаж спустя время понемножку стали возвращать те картины в экспозицию. По две-три вещи. Начали, конечно, не с Пикассо и Матисса, а с «невинных» Ренуара и Клода Моне: мол, не развалится же советская власть от двух Ренуаров.
Пиотровский повел себя недостойно
– Ваше дело по восстановлению музея, основанного на собрании Щукина и Морозова, все-таки движется?
– Само по себе оно двигаться, конечно, не может. Но я дважды по этому поводу говорила с Владимиром Владимировичем. Была у него в Кремле на индивидуальном приеме в 2017-м и в 2018 году. Поскольку я тут немножко опытный человек, я, конечно, пришла к нему не только с этими вопросами, но и с другими. Был вопрос, связанный со строительством нового здания – кстати, для современного искусства. Непростой вопрос был. Но президент здорово помог. Дал указания, и к нам уже приезжали архитекторы с проектами.

Ирина Антонова очень уважительно относится к Путину
// фото: Global Look Press
Что касается того музея, тут президент был, конечно, сдержан. В общем, он как бы взял время на размышление об этом. Так что это все далеко не так просто – что-то где-то брякнуть.
– Президент вас поддержит?
– Не знаю. Это все-таки очень зависит от Петербурга. И я думаю, что следующим шагом должна стать официальная отмена того, не подписанного Сталиным постановления. Мне кажется, что это обязательно. Надо объяснить и официально признать то решение недействительным. Это очень важно, потому что такая страна, и не дай бог наступит время, когда на него начнут ссылаться как на положительное.
Дальше мне надо найти единомышленников. Да что-то все поумирали. Ну вот Юрий Рост меня очень поддерживает, и есть еще ряд человек. Нужны весомые люди. Кто имел бы силу убеждений, решительность и голос. Что-то нет сейчас таких. Необходимо понимать, насколько это грандиозно – это будет музей первого класса! Он крайне важен для всего XXI века, и важно, что сердцевина для такого музея у нас есть – эти разрозненные, к несчастью, коллекции.
– А какие сейчас отношения у вашего музея с Эрмитажем? И лично у вас с Пиотровским?
– Эрмитаж, конечно, настроен совершенно определенно. Мы с Михаилом Борисовичем и раньше разговаривали на эту тему, но когда я в 2013 году на приеме у Путина выступила публично с этой идеей, то он, я считаю, повел себя недостойно. Он как бы намекнул на возраст, на весну – что это обострение, мол. Он извинился потом, и тоже публично, но я в общем-то с ним ни разу на эту тему больше не говорила. Думаю, Пиотровский знает, что я не оставила эту идею, и думаю, что он напряжен и ждет, и возможно, надеется на мой возраст – что уж там, мне 98-й год, это много, уверяю вас. Меня волнует только одно – успеть.
Господство одного вкуса – это плохо
– Еще одна иллюстрация к системе отношений в музее. Нельзя превращать в междоусобицу такое дело. Мне не кажется плодотворной идея объединения всех эпох мирового искусства в рамках одного музея – здесь неизбежна унификация взглядов. Тогда как, скажем, три учреждения будут давать разные взгляды.
Мне симпатичен опыт Франции, где в Париже существует три музея, посвященных этапам развития искусства. Я имею в виду Лувр, музей Орсе и Центр Помпиду. Это дает возможность более творчески разнообразного решения вопросов. Понимаете, ну ведь невольно так получится, что будет господствовать один вкус. И это плохо.
В этой связи я хочу подчеркнуть, что великий музей Франции – Лувр, когда создавался музей Орсе, передал произведения XIX века. Вот у нас тут рыдают, что кто-то кому-то передает, а они сами взяли и передали Делакруа, Домье, Жерико и других, потому что понимали: это французское искусство, а не принадлежность одного учреждения. То есть впереди – искусство, а уж за ним – директор и музей, то есть личности.
Была история…
Протест кучи против Ван Гога
«Собеседник» поинтересовался мнением Ирины Антоновой на тему современного искусства (уже нынешних дней), которое появилось в Музее им. Пушкина с приходом нового директора.
– Кому-то может показаться, что эти «акции» – например когда в музее артист цирка прыгает со второго на первый этаж – это и есть современность. Мне же так совсем не кажется, – призналась Ирина Александровна. – Я помню, как еще до Марины Лошак, давно, у нас тоже была такая «акция».
Сижу работаю – вдруг ко мне прибегает смотритель: «Иринсанна, что творится, ужас, пойдемте скорее!» Идем. А там на втором этаже какой-то субъект опорожнился перед Ван Гогом. Снял штаны, извините, и положил кучу. Вы можете себе представить? Ну это всё немедленно убрали, конечно. Все знают этого человека с кучей. Он художник и живет сейчас в Швейцарии. Я это говорю к тому, что есть и такой уровень понимания современного искусства – протест кучи против «устаревшего» Ван Гога.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №28-2019 под заголовком «Ирина Антонова: Меня волнует одно — успеть возродить музей, который разгромил Сталин».
sobesednik.ru
Ирина Антонова больше не директор ГМИИ им. Пушкина
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, возглавлявшая музей с 1961 года, покидает свой пост, заявил на пресс-брифинге в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский. “Это человек-легенда, который сделал легендой Пушкинский музей. Мы бесконечно благодарны Ирине Александровне”, — приводит РИА Новости его слова. Глава ведомства добавил, что она останется в ГМИИ в должности президента.
“Это происходило по плану — Ирина Александровна сама попросила о том, чтобы уйти с поста директора. Нового руководителя назначали по согласованию с ней, было несколько кандидатур, и Антонова встречалась с претендентами на эту должность и одобрила Марину Девовну Лошак. Дальше уже Минкультуры принимало решение по этому поводу”, — пояснил агентству советник министра культуры Владимир Толстой. – Будут внесены изменения в устав музея и введена должность президента, которая предполагает и денежное содержание. Президент — это авторитетная должность, которая позволит Антоновой сохранить свои позиции и в музее, и авторитет за пределами России. Для многих не секрет, что лучшие выставки приезжали в Москву, в ГМИИ, благодаря личному авторитету Антоновой. Естественно, она будет влиять на выставочный план музея”.
Таким образом новым директором ГМИИ им. Пушкина станет куратор, галерист и искусствовед Марина Лошак. Один из ведущих кураторов по русскому авангарду до настоящего времени работала арт-директором московского музейно-выставочного объединения “Столица” (в эту структуру входят выставочные залы “Манеж”, “Новый Манеж”, “Рабочий и колхозница” и другие центры) – на эту должность она была назначена в прошлом июле столичным департаментом культуры. До 2003 года Лошак работала в “Московском центре искусств”, затем заняла должность арт-директора галереи Гари Татинцяна. В 2007 году вместе с Марией Салиной открыла галерею “Проун” на “Винзаводе”.
Напомним, весной этого года разгорелся скандал между Эрмитажем и Пушкинским – главы двух крупнейших российских музеев в резких тонах обсуждали передел коллекций. Ирина Антонова выступила с идеей возрождения ликвидированного в 1948 году по приказу Сталина как “рассадник низкопоклонства перед упадочной буржуазной культурой” Государственного музея нового западного искусства, основу коллекции которого составляли национализированные собрания меценатов Щукина и Морозова, куда входили работы Матисса, Сезанна, Моне, Ренуара и Дега.
После они были распределены между ГМИИ и Эрмитажем, директор которого Михаил Пиотровский наотрез отказался возвращать “московскую коллекцию” в Пушкинский музей и покритиковал Антонову за то, что она втянула в спор Владимира Путина, подняв этот вопрос на “прямой линии” с президентом России. У Пиотровского в свою очередь тоже оказалось немало претензий к ГМИИ, связанных, правда, с дележом другой коллекции: в 1920-1930-х годах, когда цветаевский музей превращался из университетского музея слепков в полноценный музей с живописным фондом, из Эрмитажа в Москву направили сотни шедевров старых мастеров.
В поддержку Эрмитажа в вопросе возможной передачи картин импрессионистов в связи с идеей создания в Москве Государственного музея нового западного искусства выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко – он направил Пиотровскому письмо, в котором выразил обеспокоенность судьбой коллекции французской живописи. Главу города поддержали и депутаты, намеревавшиеся обратиться к президенту с просьбой “не расхищать” Эрмитаж.
Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1929 по 1933 год жила с родителями в Германии. С весны 1942-го в звании младшего сержанта медицинской службы работала в госпитале. В 1945-м окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им. Ломоносова. В этом же году пришла работать в ГМИИ им. Пушкина, училась при нем в аспирантуре, исследуя искусство Италии эпохи Возрождения. В 1961 году заняла пост директора музея.
На протяжении пяти десятилетий Антонова выступала инициатором и организатором крупнейших международных выставок. Благодаря ее высокому авторитету в музейном сообществе в ГМИИ удалось реализовать крупнейшие проекты с участием ведущих музеев мира – выставки “Москва-Париж”, “Москва-Берлин”, “Модильяни”, “Тернер”, “Пикассо”, “Дали” и множество других. В настоящее время в музее проходят две значимые выставки: “Прерафаэлиты: викторианский авангард” и “Тициан. Из собрания музеев Италии”.
Полный кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством” (одна из трех женщин наряду с Майей Плисецкой и Галиной Вишневской) Ирина Антонова этой весной была назначена главным куратором государственных музеев России – в этом статусе она должна возглавить комиссию по государственным закупкам для пополнения музейных коллекций.
www.mk.ru
Сегодня моя семья – сын
Ирина Антонова – уникальная женщина. Для многих она – пример для подражания, источник энергии, жизнелюбия, символ интеллигентности и вечной молодости. В 96 лет она продолжает активно работать, являясь президентом ГМИИ имени Пушкина.
Нашему корреспонденту Ирина Александровна рассказала о своей семье и встречах с великими людьми:
– Мой отец, Александр Александрович Антонов, из Санкт-Петербурга, он родился в рабочей семье. Его отец трудился на фабрике. А мой папа сумел получить какое-то образование, стал электриком. Позже он возглавлял Институт экспериментального стекла. В 1906 году вступил в большевистскую партию. Беседы с отцом оказали на меня влияние, я очень советский ребенок. Была уверена, что живу в великой стране, которая строит великое будущее. Отец был довольно суровый человек, но никогда в жизни не повысил на меня голоса. В какой-то момент у отца появилась другая семья, там тоже родилась девочка, Галина. Она впоследствии стала известной художницей по стеклу, ее работы есть и в Русском музее, и в Америке. Мне было восемь лет, когда отца послали в Берлин, в посольство, он выписал и Галю туда. И мы, маленькие девочки, провели три года вместе. А потом отец вернулся в нашу семью, но я всегда чувствовала напряженность в отношениях родителей.
Моя мама, Ида Михайловна Хейфиц, противоположность отцу. Она родилась в Литве, затем ее семья переехала на Украину. Училась в гимназии, поступила в Харьковскую консерваторию, не закончила ее, но очень хорошо пела, даже оперные арии. Познакомились родители на Гражданской войне, недалеко от Харькова. Потом поехали в Москву, где я и родилась. Мама работала наборщицей в типографии. Ей приходилось работать и по ночам. А мы тогда как раз жили с ней одни, без папы. И мне, 3-летней, снились сны, как мама уходит от меня вслед за солдатами. Это был синдром одиночества маленького ребенка. Мы с мамой были большие подруги. Она умерла, когда ей было больше 100 лет. До последнего была на ногах. Пошла помыться в ванную и там вдруг осела. Умерла в одно мгновение. Она не была слишком веселым человеком, но пела дома и была очень дружелюбна к тем, кто к нам приходил…
Отец тоже любил музыку. Приходя домой, включал Тосканини, Шостаковича. Водил меня в консерваторию на концерты.
 Ира с папой Александром Александровичем и мамой Идой Михайловной // фото: / личный архив
Ира с папой Александром Александровичем и мамой Идой Михайловной // фото: / личный архивМой муж был одним из лучших студентов знаменитого ИФЛИ, получал Сталинскую стипендию. Его невозможно было застать без книги. Много читал и много смотрел – и это сделало его одним из самых глубоко разбирающихся в искусстве людей. Он – мой второй университет… Мы с ним познакомились в Музее имени Пушкина, я уже тогда там работала. Поженились в 47-м году, прожили 64 года. Конечно, мы и ссорились, и ругались, иногда весьма основательно. Но покинуть друг друга – нет, такого вопроса никогда не вставало. Он – счастливый шанс в моей жизни. У нас один сын – Борис. Он похож на меня. Но случилось так, что Борис стал инвалидом с детства. Неизлечимый недуг обнаружился, когда ему было восемь лет. Он очень добрый человек. В первом классе, когда учительница наказала его одноклассницу, Борис, ни слова не говоря, подошел и встал в угол рядом с ней. Сказал только: «Несправедливо». Не выносит, когда о ком-то говорят дурно. Он и сегодня живет со мной и всегда жил со мной, сегодня он – моя семья…
Мой муж умер в 2011 году, ему был тогда 91 год… Отец очень много значил в жизни Бориса. Он его научил литературному языку, много с ним занимался. Все было непросто, а сейчас моя жизнь стала еще сложнее, потому что я с ним одна, если не считать няни.
…Екатерина Алексеевна Фурцева утверждала меня на должность директора ГМИИ оригинально: «А вот теперь я вам представлю нового руководителя. Вот Антонова. Я ее не знаю, но говорят, что она сможет». Надо сказать, что она очень помогала музею и мне она доверяла. Однажды я ее озадачила довольно сложным делом. Из Японии с выставки через Москву в Париж должна была пролетать «Джоконда» Леонардо да Винчи. «Вот бы ее остановить, – говорю я Фурцевой, – и показать в Москве!» Фурцева меня спрашивает: «Вы считаете, это будет интересно людям?» Я говорю: «Да, я уверена». Ну если да, то да – и Екатерина Алексеевна решила это сделать, не догадываясь, думаю, как это сложно. Она сказала замечательную фразу, за которую я готова ей многое извинить: «Я поговорю с французским послом, он в меня влюблен!» И она этого добилась.
Помню, как Екатерина Алексеевна была в гневе на меня из-за выставки Тышлера – художника, которого советская власть не любила. Это было в 60-х. Увидев меня на концерте в Колонном зале, она в антракте буквально пригвоздила меня к стене, упершись в нее обеими руками. «Что это у вас творится, Ирина Александровна?!» «А что случилось?» – говорю я, подумав, что у нас что-то украли, пока я тут сижу. Она: «Мне сказали, что вы сделали выставку Тышлера». – «Да, а что?» – «Но вы же знаете, что его Союз художников не принимает!» И в этот момент входит Иогансон, президент Академии художеств, и обнимает ее за плечи: «Катя, что за шум?» «Борис! Она Тышлера показывает!» «А что, – говорит Иогансон, – Тышлер хороший художник». И Фурцева оттаяла.
…Дружба с Рихтером – это мне выпал невероятный шанс. Потому что мало кто мог сказать, что он именно дружил с Рихтером. Он был сложным, эмоциональным, ранимым и в то же время очень сдержанным. Общение с ним было делом ответственным. Он играл у нас в залах музея с 1949 года. Но лично мы познакомились, когда я стала директором. Однажды Рихтер пригласил меня во Францию: «Ирина Александровна, я вижу, как вы слушаете музыку. Приезжайте, у меня там фестиваль». Я, конечно, поехала. Там я его спросила: «Слушайте, а почему вы делаете это во Франции? Почему не в нашей стране, у нас в музее?» Он ничего не сказал, а спустя время, когда мы были в оперном театре, вдруг спросил: «Ну, и когда начнем?» Так и начались наши с ним «Декабрьские вечера». Это был 1981 год. Святослав Теофилович был не только музыкантом, но и художником, брал уроки у Фалька. Мы неоднократно показывали его работы.
Когда Святослав Теофилович умер, его жена Нина Львовна обратилась ко мне: «Ирина Александровна, поведите меня к скульптору, я хочу сделать памятник». Георгий Франгулян сказал нам, что это должна быть огромная глыба с какой-то скалы. Мы так и сделали – нашли эту глыбу, вывезли ее из Финляндии и поставили на его могиле на Новодевичьем. Там рядом похоронены и мой муж, мои мама и папа. Я туда хожу часто.
…С Марком Шагалом меня познакомил директор Лувра в один из моих приездов в Париж. Я в то время была президентом Международного центра музеев и два-три раза в год ездила на заседания. Директор Лувра пригласил меня к себе, он жил прямо в Лувре. И вот, придя туда на завтрак, я оказалась за одним столом с Шагалом… Потом я приезжала к Шагалу в гости на юг Франции. Пришла в дом, а его нет. Меня встречает его жена Валентина (Бродская. – Ред.). Мы разговариваем, а его все нет. Наконец Марк Захарович выходит из лифта (у него тогда уже очень сильно болели ноги, и он спускался со второго этажа на первый в домашнем лифте). И вдруг разводит руки в стороны: «Ну что, я похож на клоуна?!» Я говорю: «Марк Захарович, какой же вы клоун?» «Я знаю, что похож на клоуна». Ему свойственно было шутить над собой.
В 1973 году он приехал в Москву и приходил, конечно, в наш музей. Мы ходили по залам, он очень внимательно все смотрел, а через некоторое время, оглядываясь, спрашивает: «А где же моя жена?» Я ему отвечаю, что она вон там, поодаль, с сотрудниками музея. Потом снова: «Где же моя жена?» Я ему: «Да вот же она, рядышком. Вы так боитесь ее потерять?» И он мне говорит: «Ирина Александровна, потерять ее невозможно, я ее саму боюсь». Он был ироничный и очень живой человек, несмотря на многочисленные болезни, преследовавшие его в то время. Выставку Шагала нам удалось сделать только через год после того, как он умер, в 1987 году. Это была первая выставка Шагала в Москве за всю его жизнь.
* * *
Материал вышел в издании «Только звезды» №23-2018 под заголовком «Ирина Антонова: Сегодня моя семья – сын».
sobesednik.ru
Ирина Антонова ушла с поста директора Пушкинского музея, который занимала 52 года
О том, что Антонова больше не будет руководить одним из крупнейших музеев страны, стало известно вчера на совместной пресс-конференции Ирины Александровны и министра культуры России Владимира Мединского.
– Это человек-легенда, который сделал легендой и Пушкинский музей, – отметил министр. – Мы бесконечно благодарны Ирине Александровне. Таких людей с таким послужным списком больше нет в мире.
Действительно, 91-летняя Ирина Антонова известна как специалист высочайшего класса, успешный администратор и человек, олицетворяющий высокую культуру во всем мире. Благодаря ее усилиям Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина многие годы был одним из самых авторитетных и в то же время прогрессивных музейных постранств мира. Пришла в него Ирина Антонова в 1945 году, после того как почти всю войну проработала младшим сержантом медицинской службы в госпитале на Красной Пресне. Молодая аспирантка, специализирующаяся на искусстве эпохи Возрождения, за 16 лет сделал блестящую карьеру и стала директором ГМИИ.

91-летняя Ирина Антонова будет по-прежнему трудиться на благо Пушкинского музея.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
На этом посту Ирина Антонова проработала 52 года. За это время она организовала и провела десятки крупнейших международных выставок, ее стараниям россияне смогли увидеть шедевры Пикассо, Модильяни, Тернера, Тициана. Вместе со Святославом Рихтером она организовала фестиваль музыки и живописи «Декабрьские вечера», кторый ежегодно проходит в Пушкинском музее.
Сама Ирина Антонова поддержала кандидатуру нового директора ГМИИ Марины Лошак, которая до этого работала арт-директором московского музейно-выставочного объединения «Столица», куда входят ЦВЗ «Манеж» и «Рабочий и колхозница» (кстати, Ирина – жена бывшего главреда журнала «Огонек»). А также выразила благодарность за возможность продолжить работу в музее в качестве президента:
– Надеюсь, что опыт, который приобретен мной за эти годы, принесет пользу музею.
Мы попросили Ирину Александровну прокомментировать смену должностей
– Я просто меняю одну должность на другую, никакой тайной подоплеки здесь нет. Я уже 1,5 года назад написала заявление о том, что я буду уходить с поста директора музея – на это у меня есть много причин. Но за этот период поменялся министр культуры, потом довольно долго подыскивали человека на мою должность, а в 2012 году мы отмечали юбилей нашего музея, так что процесс это затянулся. Но вот сейчас подоспело время, нашелся нужный и подходящий человек. Так что ничего подозрительного в том, что происходит, нет. Это не неожиданность, я сама попросила «об отставке».
– Так смена министра была причиной задержки? У вас что-то не заладилось?
– Нет-нет, что вы! У меня с министром Мединским прекрасные отношения.
– Кандидатуру преемника вы предложили?
– Я ее одобрила. Там такой маленький список людей, которых можно назначить на этот пост, там были и те, кого я предлагала и кого мне предложили. В данном случае на кандидатуре Лошак мы согласились.
– Какое наиважнейшее качество человеческое и профессиональное требуется от человека на таком посту, как ваш?
– Знание предмета и работы. Понимание что есть музей сегодня. Не вчера, а сегодня весь комплекс – расширение музея, да и в целом очень много назрело вопросов, связанных с коллекциями, с людьми, с изданими, с популяризацией. Мы же, знаете, такие многостаночные, мы работаем на очень многих направлениях. Не только хранение картин. Мы еще и научное учреждение – и это очень важная тема. Весь этот комплекс надо решать.

До вчерашнего дня Марина Лошак была арт-директором музейно-выставочного объединения «Столица».Фото: ТАСС
– Какую самую первую проблему надо решить вашему преемнику?
– Мне кажется, это вопрос нашего развития, вопрос создания нашего музейного городка.
– А чем закончилась ваша непростая ситуация противоречий с директором Эрмитажа Пиотровским?
– Пока ничем не кончилась. Но можно предвидеть ее исход. Но то, что было сделано, совершенно не зависит от моих взаимоотношений с Пиотровским. А это проблема отношения государства к неправильно принятому в 48 году решению абсолютно репрессионного характера – ликвидации одного из лучших музеев России (Музея нового западного искусства), которое не имеет срока давности и желания или нежелания его исправить. Это было несправедливое, вредное решение в отношении музея, который принадлежал москве и составлял его гордость. И проблема его восстановления это не проблема взаимоотношений Эрмитажа и музея Пушкина, и уж тем более не проблема личных отношений их директоров Антоновой и Пиотровского. Это масштабная, государственная проблема. Вопрос в том, захочет государство ликвидировать эту огромную, основанную на идеологии ошибку, или не захочет. Хотя, я считаю, Пиотровский вел себя неприлично в этой ситуации, за что и был осужден музейным сообществом и по этой причине должен был публично принести свои извинения.
– Ну а ваш прогноз какой в этой ситуации?
– Хотелось бы надеяться на лучшее, но… думаю, что те, кому предстоит принять это решение, не готовы это сделать.
– На должности президента ГМИИ вы сможете влиять на его работу и развитие?
– Ну а как же! конечно. Мне делегированы довольно большие права.
ПРИГЛАШАЕМ:
В Галерею Ильи Глазунова!
www.kp.ru
Ирина Антонова: от “гастрономического подхода” к искусству меня передернуло
20 марта президент Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирина Антонова отмечает 97-й день рождения. Она пришла в музей в апреле 1945 года и продолжает работать в нем и по сей день. В интервью ТАСС она рассказала о реставрации картин, перевезенных в СССР из Дрезденской галереи после Великой Отечественной войны, выставках “Моны Лизы” и Тышлера, уникальном проекте “Москва — Париж”, а также о взаимоотношениях культуры и советской власти.
— Ирина Александровна, есть мнение, что Октябрьская революция 1917 года дала толчок развитию искусства. А как вы оцениваете это событие?
— На мой взгляд, это самое крупное и великое событие XX века. Конечно, это не значит, что все идеи, с которыми совершалась Октябрьская революция, были реализованы, — вовсе нет. Но я считаю, революция в России была неизбежна, исторически оправданна. И больше того — она перевернула весь мир. И как бы мы ни относились к ней, те, кто мы есть сегодня, — это же все оттуда. Представьте, какое это было событие, если оно работает до сих пор. Если оно не исчерпано и продолжает влиять на мир. И мир его не принимает почти так же ожесточенно, как и тогда, в 1917 году.
— А как революция повлияла на музейную работу? Ведь множество музеев и частных собраний было национализировано…
— Между 1918 и 1925 годами возникло огромное количество новых музеев. По некоторым данным, их число возросло с 87 в 1919 году до более 450 музеев к 1920 году: 67 в Петрограде и пригородах, 83 — в Москве и Подмосковье и более 300 в провинции. Музеи открыли для народа, части запасников передавали в региональные музеи.
На мой взгляд, это был чрезвычайно важный шаг — революционный опыт, к которому нам стоит вернуться
Конечно, в провинцию не отдавали “Блудного сына” Рембрандта или, скажем, “Данаю”, но отдали прекрасные, хорошие вещи. Тот же Музей Востока был создан на основе переданных из других коллекций произведений. Мы были учебным музеем при Московском университете, а стали музеем мировой художественной культуры.
Что сделала революция? Она попыталась справедливо перераспределить не только хлеб, но и культурные ценности. Все преобразилось, вся музейная сеть страны стала другой.

Выставка подарков И. В. Сталину
© Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина— В 1949 году в музее открылась выставка подарков И.В. Сталину. На три года музей фактически утратил свою экспозицию и функции. Как вам удалось обеспечить сохранность коллекции?
— Тогда уволили три четверти персонала. Оставили небольшую группу людей — хранителей, а в наше здание въехал Музей революции во главе с товарищем Толстихиной. Они стали хозяевами сталинской выставки, которая располагалась на первом-втором этажах, ее открыли в начале 1950 года. Кроме того, в нашем музее в это время хранилась коллекция Дрезденской галереи, другие перемещенные ценности и переехавшие из эвакуации памятники. Невероятный объем! Как музей не взорвался от всего этого, непонятно.
Но мы продолжали работать, причем даже не водили экскурсии по выставке подарков Сталину — там был свой, проверенный контингент, который знал, что говорить про все те экспонаты. Кстати, некоторые из них были очень интересными, кое-что и сейчас у нас осталось, например картины итальянского художника Ренато Гуттузо.

Работа художника Ренато Гуттузо “Резня ягнят” (1947 год)
© Артем Геодакян/ТАСС— Когда в марте 1953 года Сталин умер, музей сразу почувствовал облегчение?
— Вы знаете, не сразу. Дело в том, что выставку продержали еще месяца четыре, где-то до августа. Потом ее стали демонтировать. Она была очень громоздкой по внутренней архитектуре и разбирали ее долго. Часть предметов передали в Музей революции, часть — в Музеи Кремля, что-то — в детские дома, потому что было много одежды, книг, игрушек.
А мы тем временем готовили уже новые экспозиции и к концу года даже кое-что открыли.
— После смерти Сталина наступил так называемый период оттепели…
— Он ведь не сразу все-таки наступил… В 1955 году наконец решили сделать выставку Дрезденской галереи. Это была эпопея незабываемая! Во времена, когда мы, искусствоведы, учились, все было эвакуировано, музеи закрыты, подлинников нет. Но у нас в ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории — прим. ТАСС) был замечательный профессорский состав: Алпатов, Лазарев, Виппер… Мы им на слово верили, потому что смотреть было не на что — не было памятников, понимаете.
И вдруг в начале августа 1945 года начали приходить грузовики с картинами Дрезденской галереи. Молодые ребята, солдаты все это нашли, привезли сюда. Пришла “Сикстинская Мадонна” Рафаэля, вот Боттичелли, которого ты, как говорится, вообще не видал никогда. И тебе Веласкес, и Рубенс, и Рембрандт. И даже “Шоколадница” Лиотара. А какая графика! Кстати, в какой-то момент меня бросили, как выражаются, на графику. А там такие рисунки потрясающие!
Так, как мы тогда увидели “Сикстинскую Мадонну”, ее уже потом не видели. Это прекрасная молодая женщина, она идет босая по облакам и несет навстречу людям свое дитя. Для нас это был образ той неисчислимой, великой жертвы, которую наш народ принес в этой войне для освобождения Родины. И вот десять лет мы с этим работали, описывали состояние сохранности, отдавали в реставрацию, получали из реставрации, обсуждали, принимали, не принимали. А потом сделали экспозицию. А потом работали на ней.

Картина “Сикстинская мадонна” Рафаэля Санти
© AP Photo/Jens Meyer— Ирина Александровна, как вы думаете, почему советское правительство десять лет после войны не выставляло эти “перемещенные ценности” из немецких собраний?
— А потому что сомневались, отдавать ли их назад. В какой-то момент начали решать этот вопрос. Кто-то был за, кто-то против. Кто-то говорил: “Слушайте, мы столько потеряли во время Великой Отечественной войны, 435 музеев было полностью разрушено”.
Это récompense — возмещение этих потерь, и мы имеем на то моральное право. Пропало множество ценностей. Все почему-то говорили сегодня только о Янтарной комнате, а все окрестности Ленинграда? Ораниенбаум, Царское Село… Я, кстати, была в Ленинграде в 1946 году, и у меня до сих пор в глазах стоит разрушенный город. То, что есть сейчас, —великолепно, но, вы меня простите, это все-таки новодел
И вот, наконец, приняли решение организовать выставку картин Дрезденской галереи. Причем мы узнали об этом 31 марта 1955 года, а открыть выставку надо было 2 мая. Представляете, что значит открыть такую выставку за месяц! Часть картин была еще на реставрации, некоторые работы очень сильно пострадали. Например, “Динарий кесаря” Тициана. С этой картиной главный реставратор музея Павел Дмитриевич Корин, как с малым дитем, возился три года. Он ее получил, положил на стол, сказал никому не трогать по крайней мере полтора года. Вся доска насквозь была мокрая. Сняли с нее белый налет, картина гибла на глазах, можно сказать. Он ее привел в замечательное состояние. Сейчас “Динарий кесаря” в Дрездене показывают, хранят в специальной витрине, потому что все-таки картина больная. Но она спасена.
Когда выставка открылась, музей день и ночь был окружен очередью. Сейчас так делать нельзя, но тогда нанесли невероятное количество ящиков, на которых спали, обедали, ужинали. Очередь была веселая. Я такой веселой очереди никогда не видела. Некоторые стояли по трое суток. А почему? Попадая внутрь, люди не уходили. Ходили кругами и не уходили. А раз не выходят, так и другую партию не запустишь. Тогда догадались сделать сеансы: три часа — и уходи, другие придут.

Выставка картин Дрезденской галереи. Оформление фасада Музея, 1955 год
© Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина— Когда в 1961 году вы стали директором ГМИИ им. А.С. Пушкина, наверняка была куча каких-то безотлагательных хозяйственных вопросов. Находили ли вы поддержку у руководства страны?
— Я пришла в музей, который очень пострадал во время войны. Я начинаю работать, а надо закрывать половину второго этажа, потому что крыша разрушена, ее толком не починили, льется вода на экспонаты, а многочисленные письма в Моссовет и Минкультуры не давали результата. И вот тогда я совершила решительный шаг — взяла на себя смелость и через голову Фурцевой (в 1960–1974 годах министр культуры СССР — прим. ТАСС) написала Алексею Косыгину, он был председателем Совета министров СССР. Заканчивала я письмо драматически: “Не дайте разрушиться музею”. И на следующий день получила ответ, сверху было написано: “Промыслову (председателю исполкома Моссовета в 1963–1986 годах — прим. ТАСС), Фурцевой”, и та же фраза, которой я кончала свое письмо: “Не дайте разрушиться музею. Косыгин”. И дело пошло…
— В 60-е годы вы организовали две экспозиции, которые имели огромный успех, — это выставка работ Фернана Леже, а затем Александра Тышлера, который не выставлялся ни при каких условиях. Как вам это удалось? Ведь вокруг этих выставок буквально все кипело…
— Вы знаете, у кого кипело? Сделали выставку Бехтеева, это был хороший художник-график, к “Евгению Онегину” делал иллюстрации. Как меня за нее разнесли… Я до сих пор не могу понять, какая бы ни была затхлая точка зрения на понимание искусства. Но Бехтеев-то чем-то не угодил? Помню, как открыли выставку Тышлера, и я пришла на общее собрание в Колонный зал. Антракт. Идет Фурцева, видит меня, глаза у нее стекленеют, вдруг приперла меня к стене так, что у нас носы почти соприкасались, и сказала: “Что я слышу! Что творится в вашем музее!”
Я подумала, в музее начался пожар, пока я сидела на заседании, или украли картину. Спрашиваю: “Екатерина Алексеевна, что случилось?” — “Как что? У вас выставка Тышлера! Он не член Союза художников”. В этот момент мимо проходит Борис Иогансон (в 1965–1968 годы первый секретарь правления Союза художников СССР — прим. ТАСС), обнимает Екатерину Алексеевну за плечики: “Катя, а что происходит?” — “Борис, ты подумай, у них выставка Тышлера!” — “Катя, Тышлер — хороший художник”. “Да”, — говорит она и отпускает наконец-то руки. — А мне говорили…”
Вот вам эпизод к истории о том, как создавалось мнение о каких-то мастерах, которых не надо было показывать, которые были идеологически неправильными.

Ирина Антонова, 1973 год
© Валентин Черединцев/ТАСС— А почему вы к Фурцевой хорошо относились?
— Я все понимала, в смысле, откуда она, что она. Ее бэкграунд (Фурцева начинала свой жизненный путь ткачихой на фабрике “Большевичка” в Вышнем Волочке — прим. ТАСС), так сказать, что она может. Она умная, конечно, непростая женщина. Ну не было у нее определенной среды, не знала она к тому моменту, кто такой Матисс или кто пострашнее. Она была рабочим человеком, ей хотелось действовать.
И еще одно, почему с ней можно было работать: если она кому-то доверяла, то уже доверяла. Она была решительно окончательная в своих заключениях. Но кто-то, кому она верила, всегда должен был ей нового человека сначала показать, что тот к добру, с точки зрения того мира, в котором она жила. Не знаю кто: Иогансон или Алпатов, или еще кто, но где-то я у нее запечатлелась в положительном духе, и когда мы делали все те выставки, видимо, она уже доверяла мне.
— В 1974 году в СССР в специально изготовленном пуленепробиваемом ящике привезли “Мону Лизу” из Лувра. Москва стала третьим городом, который увидел легендарный шедевр Леонардо да Винчи. Правда, что этому способствовала Фурцева? Как шла организация выставки одной картины?
— Я узнала из нашей прессы, что через Москву летит “Мона Лиза”, которая до этого нигде, кроме Вашингтона, не была. В Париже, в Лувре, она хранится, а летит в Токио. Я пошла к Фурцевой и сказала: “Екатерина Алексеевна, в Токио находится “Мона Лиза”. На обратном пути она через Москву будет пролетать, надо бы ее остановить у нас. Екатерина Алексеевна, вы же все можете”. Она подумала и спросила меня: “Это будет интересно людям?” Я ответила: “Да, я думаю, несомненно”. Без ажиотажа с моей стороны, чтобы не было ощущения, что везут что-то такое сверхнеобыкновенное. Она говорит: “Я это сделаю. Французский посол влюблен в меня, он мне поможет”. Я была поражена такой аргументацией. А с другой стороны, почему бы и нет? Через некоторое время, очень короткое, мне перезвонили, попросили приехать и сказали: “Переговорили с Францией, с Лувром, готовьтесь, будет у вас “Мона Лиза”. Она договорилась, я ей очень благодарна, потому что явление “Моны Лизы” — это, конечно, грандиозное событие в Москве, в СССР.
Французы сказали: “Только такая витрина, только такого образца, только с таким стеклом, с такой степенью охраны. Если этого нет — выставки не будет”. Мы все сделали. Был такой Минсредмаш (Министерство среднего машиностроения СССР — прим. ТАСС), они нам помогли. Пять главных стекол заказали на Украине. Приехало все днем, а ставили около 12 ночи. Уже пришла картина, ее готовились повесить — и что же происходит? Первое стекло лопается, лопается второе, потом третье. В этот момент Александр Георгиевич Халтурин, заведующий музейным сектором Министерства культуры, говорит: “Сердце не выдерживает, я пошел”. Мне деваться некуда, я стою. Короче говоря, последнее стекло встало. Что там было? Я не знаю.

Картина Леонардо да Винчи “Мона Лиза” в Москве, 1974 год
© Валентин Черединцев/ТАССРядом с залом, где выставили картину, была комната. Там все время, день и ночь, дежурили три человека, которые по любому сигналу защитили бы картину. Случай был, кстати. Одна женщина от полноты чувств вытащила букет гвоздик и бросила. И достала, хотя расстояние было довольно большое. В тот же момент взвилась сигнализация. Выскочили наперерез, сразу перед картиной встала вооруженная группа людей. Посетительница чуть в обморок не упала, мы ее отпаивали потом. “Что вы наделали?” — “Я не знала, я не знала…” — рыдала, плакала она.
Публика поразительна. Пришлось тогда избрать такой мавзолейный принцип: никто не мог долго стоять, надо было проходить мимо. Все, кто уходил, двигались спиной назад, чтобы еще какое-то время в глазах оставалась эта абсолютно великая картина
— Конечно, нельзя не вспомнить и выставку, ставшую шагом вперед — и по масштабам, и по содержанию: впервые в Советском Союзе в столь полном объеме показали знаменитый русский авангард 1900-х годов. Я говорю о выставке “Москва — Париж” в 1981 году.
— Дело было в Париже. Вопрос, где проводить выставку “Москва — Париж”, обсуждался в Центре Помпиду. Сотрудники ЦК, очень важные, предложили Поликарпу Ивановичу Лебедеву, директору Третьяковской галереи, организовать выставку. Ему говорят: “Половина этой выставки из Третьяковской галереи”. А произведения до того были все в запасниках. Но все равно он отказался, сказал: “Только через мой труп!” Все замерли, потому что были уверены, что выставка пройдет в Третьяковке. Примерно так же отреагировала Академия художеств. Заместителем президента академии был Петр Сысоев (главный ученый секретарь президиума АХ в 1958–1988 годах — прим. ТАСС). Он улыбаясь сказал: “Да нет, категорически…”
Наступил наш звездный час. Я почувствовала, какие все crispés (встревоженные, напряженные — прим. ТАСС), как говорится. Говорю, улыбаясь: “У нас подпорченная репутация. Мы не одну выставку сделали, сделаем и эту”. И все в один голос поддержали меня: “Ну, конечно, в Музее Пушкина!” Так она к нам попала. Но все-таки она была вызывающей, — в углу у нас висел “Черный квадрат” Малевича.

“Черный квадрат” Казимира Малевича
© AP Photo/Dmitry LovetskyЗнаете, как делалась выставка? Утром ровно в 10 звонок из отдела культуры ЦК, я поднимаю трубку. “Ирина Александровна, какой баланс?” Вам не понятно, а мне — понятно. Имелся в виду баланс между формалистами и реалистами. Я отвечала: “Все в порядке”.
Вспоминаю случай, когда ко мне подошла жена скульптора Баранова, держа в трясущихся руках картину представителя авангарда 20-х годов Климента Редько: “Ирина Александровна, вы знаете, это никогда не показывалось”. Я на нее посмотрела и сказала: “Какой Редько! Этот Редько у меня перевесит гораздо более важный баланс”. Нельзя было допустить, что бы кто-то позвонил в ЦК и сказал: “Вы знаете, там добавляют того, другого”. Выставка была перенасыщена вещами, которые до этого никогда не показывались. Целая стена Филонова, пятая и шестая секции — две композиции Кандинского размером с гобелены XVII века… И важно было ее сохранить в таком виде до конца.
— Выставка прошла с таким успехом, что даже члены Политбюро осветили ее своим присутствием.
— В последний день работы выставки пришел Леонид Ильич Брежнев в окружении членов Политбюро. Не забывайте, что все-таки она делалась вместе с французской компартией, и эти отношения ценились тогда очень. Кое-где меня пихали в бок помощники Брежнева: “Проведи мимо этого, проведи мимо того…” Я говорю: “Как я проведу мимо, когда мы прямо лицом идем на эту картину?” Народ вокруг него, его прямые помощники, дрожали, очень были напряжены, не знали, какая у него будет реакция. Брежнев шел, я ему по ходу выставки рассказывала про все. А потом мы пришли в Белый зал, и я подвела его к портрету Ленина работы Александра Герасимова, который нам был дан из Кремля. Он его знал, сказал: “Дайте мне книгу отзывов”. И Леонид Ильич написал хороший отзыв, улыбался, был доволен экспозицией и принял ее вполне. Все вздохнули с облегчением.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с делегацией во время посещения выставки “Москва – Париж 1900-1930”
© Владимир Мусаэльян/ТАССВы знаете, он не был так прост. Конечно, он все понимал. Я даже думаю, что эта его поздняя манера, когда он был действительно нездоров, он понимал гораздо больше, чем отражалось в его лексике, в его взглядах, в его языке. Все-таки у него был большой жизненный опыт, он знал людей.
Спецпроект на тему
— По роду своей деятельности вы встречались со многими представителями советской власти. Каким был культурный уровень этих людей?
— Время от времени, обычно вечером, приходили члены Политбюро или руководители Московского горкома партии. Это случалось нечасто. На меня огромное впечатление произвел один товарищ, секретарь ЦК КПСС Константин Катушев. Он по-настоящему любил искусство, следил за открытием выставок в музее. Приходил не со всеми членами Политбюро по вечерам, а, как правило, днем в воскресенье. То есть когда обычные люди были на выставке, а не так, что всех прочь. Он обязательно посещал все выставки, не пропускал ни одной. Иногда подходил ко мне: “Ирина Александровна, вы занимаетесь Италией. Может, немножко нам расскажете?” Пошла, рассказала, что думала, посоветовала. Обменялись впечатлениями. То есть это был нормальный человеческий контакт. Он ходил серьезно. Ему нравилось.
Что самое поразительное, до сих пор сюда приходит его жена, пожилая женщина уже, хрупкая. На все выставки — так он ее воспитал. Приносит цветочки, садится, вспоминает, любит искусство, рассказывает, что видела. Другие приходили вечером, как правило, в соответствующем режимном графике. Им тоже показывали. Люди были разные. Где-то воспринимали очень живо.
Помню, у нас в музее проходила выставка из коллекции Тиссена, там была картина итальянского мастера XV века Карло Кривелли “Мадонна с младенцем”. Есть такой сюжет, когда Мадонна с младенцем изображается на троне и вокруг нее овощи и фрукты: гранат, огурец. И все они имеют символическое значение. И вот пришли как-то Виктор Гришин (первый секретарь Московского горкома КПСС в 1967–1985 годах — прим. ТАСС) вместе с Андреем Кириленко (секретарь ЦК КПСС в 1966–1982 годах). И подойдя к этой картине и взглянув на огурец, который там был изображен, товарищ Кириленко сказал: “Вот бы этот огурчик, да под водочку”. Меня, откровенно говоря, от такого “гастрономического” подхода к великому произведению несколько передернуло.
Беседовал Дмитрий Волин
tass.ru
Снос памятника – Культура – Коммерсантъ
Сегодня утром на брифинге в Министерстве культуры министр Владимир Мединский сообщил, что Ирина Антонова, возглавлявшая ГМИИ имени Пушкина 52 года, перестала быть его директором и переходит на новую должность: ей предложен ранее не существовавший пост президента музея. Новым директором ГМИИ назначена бывшая галеристка, а с недавнего времени музейный деятель Марина Лошак.
Это новость, которую ждали все музейщики мира, но поверить в которую все равно невозможно. С одной стороны, директоров музея класса ГМИИ в возрасте за 90 лет не бывает. С другой, разве может быть директором ГМИИ кто-то кроме Ирины Антоновой? Она продиректорствовала там больше половины того века, который существует сам музей, и все, что мы понимаем сегодня под именем ГМИИ, ее рук дело. И хорошее, и плохое.
Ее можно долго и совершенно справедливо критиковать: и за неуемную властность, и за откровенную и прилюдную грубость по отношению к сотрудникам музея, и за умение дружить прежде всего с теми, с кем нужно дружить, и за колебания вместе с линией той партии, которая сегодня самая нужная партия, и за упадок науки в ГМИИ, из которого за эти самые 52 года регулярно уходили самые талантливые, а потому непокорные ученые, и за по-сталинистски непреклонную позицию по поводу невозвращения трофейного искусства в Германию, которая привела к тому, что многие годы вещи прятались от глаз любых ученых. Но не признать того, что Ирина Антонова давно уже не человек, а памятник, невозможно.
Великая женщина, что тут говорить. Тихая вроде бы девочка из хорошей еврейской семьи, специалист по искусству Возрождения, ученица лучших на тот момент специалистов легендарного ИФЛИ, а потом МГУ, своими маленькими руками и вкрадчивым голосом она делала, казалось бы, нереальные вещи: ловила в воздухе тончайшие флюиды и притягивала в ГМИИ все, что только можно было в данной конкретной политической обстановке. В ее послужном списке — вынос на люди глубоко запрятанных импрессионистов, выставки формалистов, когда это только стало возможным, показ «Джоконды», которую Антонова перехватила на пути из Японии домой, легендарные «Москва—Париж» и «Москва—Берлин», первый в России Шагал, да и недавние Караваджо с Тицианом вообще-то из разряда сенсаций для российской публики. Ну и, конечно, знаменитые «Декабрьские вечера» (совместный проект со Святославом Рихтером, с 1981 года), а также самая главная искусствоведческая конференция страны «Випперовские чтения»,
www.kommersant.ru